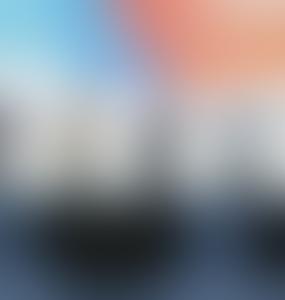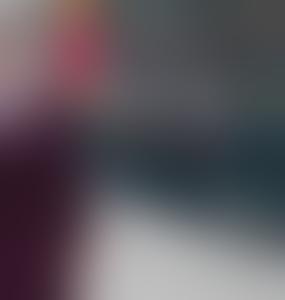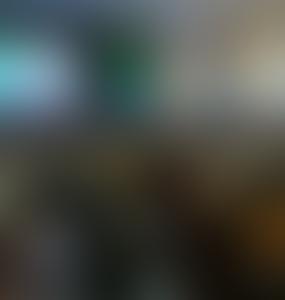Вильнюс встретил строгим взглядом сотрудницы паспортного контроля: зачем прилетел и надолго ли? По приглашению. На день. Дальнейших расспросов, долгих воспитательных пауз с просвечиванием визы и нарочито медленным изучением документов — всего, что выпало на долю многих пассажиров московского рейса, счастливо избежал. Из аэропорта вышел прямо в Европу. С того бока, с которого ее никогда еще не видел.
Впрочем, вру. Всего месяц назад ездил же в Ригу забирать прибывший из Нью-Йорка груз личных вещей. Ехал один, через Беларусь и ночью, проходя границу, удивлялся очередям из старых машин с латвийскими номерами, груженных сахаром, мукой, консервами. Старик-латыш вместе с внуком выворачивали наизнанку багажник по просьбе латышского же пограничника: масло, крупа, канистра бензина.
Нет, не заметил я в Латвии европейского лоска, автобанов, придорожных кафе, пахнущих свежесваренным кофе. Увижу ли в Литве?
Пропутешествовав по кризисной Европе больше десяти тысяч километров с кинокамерой за спиной, я вообще, наверное, привык доверять разным второстепенным мелочам больше, чем красочной и белозубой рекламе какого-нибудь Vodafone.
Хозяин пустого мотеля в глухой испанской провинции Раскуера приносит тарелку с омлетом, которую норовят опрокинуть его давно не кормленные собаки. Они скулят и забрасывают лапы на стол. Гостиница для дальнобойщиков в отсутствии самих дальнобойщиков не имеет никакого смысла. Мэр Раскуеры, оставшийся один на один с тотальной безработицей, разрешил жителям муниципалитета выращивать марихуану. Покупатель — клуб состоятельных курильщиков из Барселоны. Единственный человек в холле гостиницы — ее хозяин — дымит сигаретой за барной стойкой при выключенных кондиционерах и вентиляторах. Окна запотели от жары. Прибор, на который хозяину не жалко электричества, это телевизор под потолком. В телевизоре испанский премьер Рахой говорит что-то про урезание расходов.
Восточный Берлин. Мальчик Петя — сын оставшегося в Германии советского офицера и немецкой учительницы — проводит экскурсию по ночному городу, вернее по той его части, которую сам знает лучше всего. Пете 21 год, он программист, но сейчас — временно безработный. На свет фар из темноты вышагивают проститутки. Моргают зеленые витрины турецких закусочных, за ними — бесконечные ломбарды и казино, наступающие единым фронтом на совсем не злачные вроде бы районы. Ломбарды — родимые пятна депрессии, набухающие лимфатические узлы, по которым безошибочно ставишь диагноз. Ломбарды и казино приходят туда, где поселилась безработица. Как в американском Нюарке или Баффало. Как в немецком Рюссельхайме. Как в восточном Берлине, откуда немец Петя Морозофф собирается эмигрировать в Швейцарию, чтобы освоить там профессию хиропрактора. По какой-то необъяснимой причине Петя уверен, что Швейцарии необходимы хиропракторы. “Там много денег, один мой знакомый уехал туда и уже заработал столько, что теперь может не работать совсем”.
В отличие от Пети Оксана Л. — чистокровная немка, хоть и выросшая в Новокузнецке. До прошлого января ее мир находился в равновесии, ведь покинув голодную перестроечную Россию, семья Оксаны сделала выбор в пользу зажиточного Боблингена. Однако после увольнения все встало с ног на голову. Коллекторские агентства забивают почтовый ящик счетами и повестками. Холодильник пуст. Дочь Оля говорит, что не может видеть, как надрывается мать, что за последние месяцы даже дружный олин класс разделился на богатых и бедных. Спрашиваю, о чем мечтает? “Хочу иметь очень много денег. Купить несколько домов. Один себе, один маме”.
От той европейской поездки, ставшей частью фильма “Планета Вавилон”, с которым я и приехал в Вильнюс, в памяти осталось множество неразобранных слайдов. Шахтеры Астурии, выходящие из подземелья в солнцезащитных очках — голодали в темноте 50 суток, чтобы не допустить сокращения зарплат. Сборщики картона на улицах Афин — как же похоже на Буэнос-Айрес 2001-го года! Покончивший с собой конезаводчик из итальянского Венето — ему стало нечем кормить лошадей, а продавать их не захотел. Конечно, все это лишь мелкие штрихи, малозначительные детали. Но в них теперь безо всякого преувеличения кроется дьявол.
Разглядываю из окна старенького джипа весенний Вильнюс. Разглядываю в надежде увидеть “зеленые ростки”, признаки наметившегося вроде бы, если верить Википедии, экономического подъема.
Пытаю вопросами своих литовских коллег. Стало ли лучше? Живы ли “балтийские тигры”? Что с работой, с производством, с сельским хозяйством? В моих вопросах нет ни надменности, ни издевки, которых, чувствую, ожидают от гостя из “недружественного государства”.
Прочитал где-то, что в каждом русском журналисте литовцам теперь мерещится какая-то “мягкая сила”. С улыбкой вспоминаю изобретателя этого термина, гарвардского профессора Джозефа Ная, у которого брал интервью в 2007-м. По Нэю, “мягкая сила” — это Кока-Кола, Макдональдс и рок-н-ролл. Ни того, ни другого, ни третьего в Вильнюс я не привез. Привез лишь любопытство. Мне правда интересно. Может быть, здесь знают какой-то секрет, формулу философского камня, способного остановить или хотя бы замедлить кризис? Мы вот в России не знаем. Не знают Китай, США, Европа или Азия. В сущности, вот он — главный вопрос, на который я после шести месяцев непрерывных командировок так и не смог ответить: где же выход из кризиса и есть ли этот выход вообще?
Вопрос этот в разных формулировках задавали и зрители после просмотра “Планеты Вавилон”. Где выход? В отвергнутом и “балтийскими тиграми”, и самой Россией наследии СССР? В китайской версии капитализма? В американской — социализма? В обращении к Богу или в покаянной молитве? Честно — не знаю. Знаю, что заклинания о сменяющих друг друга экономических циклах, согласно которым всплытие начнется сразу после достижения дна, больше не работают. В который уже раз, оказавшись на дне, мировая экономика слышит “стук снизу”.
Сидя в одном из вильнюсских ресторанчиков, мы спорим об этом с Артурасом Рачасом — популярным журналистом новой, демократической Литвы. Артурас — безработный. Впрочем, в отличие от многих других литовцев, он ушел с работы по собственному желанию. Бунтарь и мятежник, как характеризуют его окружающие, Рачас парит над бурей и, вероятно, собирается доказать кризису, что “если крутиться и не предаваться отчаянию, можно выжить в любой ситуации”.
Главная ценность по Артурасу — это приобретенная в 90-е свобода. Быть свободным и голодным лучше, чем сытым, но рабом, декларирует он. Пожалуй, что так. Но разве свобода и рынок — синонимы?
Почему невидимая рука этого благословенного общеевропейского рынка не пощадила унаследованные Литвой высокотехнологичные производства, ее сельское хозяйство, ее энергетику, наконец? Я слышу ссылки на удачные инвестиционные проекты — ферментное производство, лазерную промышленность. Но даже сам мой собеседник признает и понимает, что это — ничтожные величины на фоне общего запустения.
Как и в Латвии, это запустение беззастенчиво смотрит на тебя с любой улицы Вильнюса. Исключая, может быть, аккуратный витринно-исторический центр. Если сравнивать центральные площади и богатые районы, то в мире, пожалуй, вообще нет никакого кризиса.
Я говорю Артурасу, что история, по всей видимости, действительно развивается по спирали, а значит, промотав советское индустриальное наследие, обе наши страны (да и не только наши) на разных скоростях подходят к одинаковым выводам. Тем самым выводам, игнорирование которых обрушило однажды Императорскую Россию и подтолкнуло ее народы к поиску новых форм государственности. Ведь, как бы ни относиться к СССР, его непосредственными родителями были глобальный кризис и мировая война. “В Литве кризиса не было”, - возражает Рачас, переводя разговор в русло популярной здесь темы о “советской оккупации”. Я вспоминаю, как всего час назад, после презентации фильма, Артурас был вынужден противостоять целому залу, возмущенному его словами о том, что “в Литве сохранилась бесплатная медицина”. “Вы сами виноваты в том, что не вырастили детей, которые будут вас обеспечивать”, - бросает Артурас разневанным старикам, чем вызывает лишь новый приступ негодования.
Во все времена единственным и естественным лекарством от экономической депрессии были поиск и наказание виноватых. Инородцев, иноверцев, оккупантов, вредителей. К сожалению, этот рецепт работает очень недолго, поскольку им невозможно наполнить желудки. Впрочем, можно сократить количество едоков. За годы европейской интеграции население Литвы уменьшилось на треть.
Старший сын Рачаса тоже в Европе, где строит собственную жизнь. Вернется ли он? Вряд ли, признается Артурас, перед тем, как попрощаться, но подчеркивает, что и это — проявление свободы, за которую стоит погибнуть. В черной широкополой шляпе, широким шагом мой непереубежденный собеседник удаляется в темноту.
В самолете на Москву открываю книгу статей незнакомого мне литовского журналиста Альгирдаса Плукиса. На случайной странице попадаю на цитату из газеты “Летувос жинес” от 12 января 1931-го года: “Может быть, некоторых и можно убедить в том, что в Литве действительно хорошо жить всем. Но ошибкой было бы оценивать экономическое благополучие по строящимся большим домам и полным людьми кафе, ресторанам и кинотеатрам. Правда, у нас есть такой слой населения, который не стесняется в средствах, но, посмотрев на то, каким образом эти деньги были получены, я не чувствую радости...” Автор продолжает: “С началом мирового экономического кризиса зарплаты в Литве стали падать. Так, на фабрике металла И.Вайлокайтиса в 1931 году рабочие получали по 6-7 литов в день, в 1932 году по 4-5 литов. Рабочие каунасских лесопилен в 1931 году зарабатывали по 6-7 литов за день, а в 1932 году — 4-5 литов”. Закрываю книгу. Наблюдаю за проплывающими внизу красными черепичными крышами. Потом невольно переключаюсь на сидящую передо мной литовскую пару. Весь полет они смотрят по планшетнику российский “Камеди-клаб”, смеются и оживленно что-то обсуждают. Я не понимаю ни шуток на русском, ни комментариев на литовском. Судя по всему, у этих литовцев в Москве бизнес. Мысленно желаю им вопреки всему сохранять сегодняшнее беззаботное настроение. Через мгновенье самолет зарывается в плотные европейские облака.